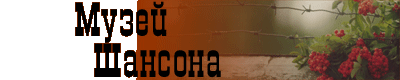Глеб Горбовский. Окаянная головушка
Поэт Глеб Горбовский — из поколения, давшего России и миру Иосифа Бродского, Николая Рубцова, Александра Кушнера, Виктора Соснору. Написанные Горбовским почти полвека назад "Фонарики ночные" пела вся страна. Да и сейчас поют от Питера до Сахалина: "Когда качаются фонарики ночные и темной улицей опасно вам ходить, — я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить". Поют, не подозревая, что у этой воистину народной песни есть автор, живущий в Петербурге и продолжающий писать в свои семьдесят лет замечательные стихи.
Война меня кормила из помойки
— Глеб Яковлевич, почему Вы назвали книгу избранных стихов — сгусток того лучшего, что создано Вами за полвека, — "Окаянной головушкой"? Почему "окаянная", а не "покаянная"? Ведь книга Ваша — исповедальна, и Вы каетесь в ней перед Богом, людьми и Отечеством за некую вину перед ними...
— Но вина-то эта и состоит в окаянстве прожитой жизни. Я не хотел так жить, но жил годами: в безверии и гордыне...
— Вообще-то у слова "окаянный", кроме бранно-осудительного, есть и другое, более древнее значение: "отверженный", "проклятый"... Недаром Артюра Рембо и Шарля Бодлера называли "проклятыми поэтами". Они отвергали общество, в котором существовали, а общество отвергало их...
— Если уж говорить о французах, то я все-таки ближе к несчастному Франсуа Вийону... Мой протест иного происхождения, чем у того же Бодлера: "...канавы, полные навоза через край — вот какова моя дорога в Рай". И у меня остались за спиной смрадные канавы, но это не квинтэссенция прожитой жизни, как у Бодлера, а лишь горькие воспоминания о том, что мне пришлось испытать когда-то. "Я тоже падал глазами в землю. Поодаль — падаль в канавах пахла". Или: "Война меня кормила из помойки. Пороешься — и что-нибудь найдешь..." Все это мое — о детстве моем...
Я — подранок... Нас таких было много... Детьми хлебнули войны: оккупация, скитания, безотцовщина, сиротство... Я встретил войну один на один, девятилетним шкетом. В то лето мама отправила меня к родственникам под Порхов. Там и настигла маминого сыночка война.
Три года оккупации я жил — чтобы выжить... Жил, как звереныш! Не довелось мне быть ни юным партизаном, ни пионером-героем. Отирался возле немецких госпиталей, где вкалывали подсобниками наши пожилые мужики — расконвоированные военнопленные. Ну и я вроде — при них. Возили на лошадях дрова с лесной делянки, с карьера — песок, с колодца — воду; чистили отхожие места. Как к нам относились немцы? Могли и конфету-бомбошку какую-нибудь протянуть, могли и шалость простить, даже шкоду, а могли и повесить за ничтожную провинность.
Расстреливали немцы без показухи: буднично, методично... А вот повешения проводились для устрашения: при согнанном со всего города народе, в центре Порхова, на площади у сгоревшего универмага № 13. Там с мирных времен сохранился внушительный столб. На нем и вешали. Мне приходилось видеть, как казнили людей... Можно было закрыть глаза, отвернуться. Ан, нет, — в детстве любопытство необузданно; и я смотрел, набираясь чего-то такого, от чего не мог освободиться многие и многие годы...
— Но разве все, о чем Вы сейчас вспоминали, — повод для покаяния?
— Нет, конечно... Это лишь эпизоды из окаянной жизни. А каяться надо за все, что было в ней дурного — и "по чужой и по нашей вине".
Сижу на нарах, как король на именинах
В Ленинград, к матери, я вернулся уже четырнадцатилетним подростком со своим норовом, привычками и искаженным пониманием Добра и Зла. Слишком рано я повзрослел: стал курить, пробовать водку и, конечно, подворовывать по мелочам у немцев. Мое появление в Ленинграде после долгого отсутствия не стало подарком для семьи, где были моя мать и отчим, сменивший отца, осужденного по политической статье еще в предвоенные годы.
Отринутый за неуспеваемость из 5-го класса, куда сунулся минуя 3-й и 4-й, я учился в ремеслухе на столяра-краснодеревщика. Но, пожалуй, истинным моим пристрастием были в ту пору поездки в Поповку: собирать оставшиеся на месте боев шашки тола, патроны, сигнальные ракеты, артиллерийский порох и детонаторы. Все это привозилось в город и использовалось в пиротехнических "спектаклях" со взрывами на лестницах, трамвайных путях, дворах, а то и в учебных классах. Личное карманное оружие я нашел, правда, не в Поповке, а в чемодане приехавшего на побывку в Ленинград морского офицера — приятеля моего отчима...
Это был никелированный шестизарядный трофейный револьвер. Если же прибавить сюда кражи арбузов, драки, азартные игры, многочисленные приводы в милицию и знакомство с нарами КПЗ — изоляция меня от общества было делом предрешенным. Но мне еще не было шестнадцати, и прокурор предложил без суда отправить меня в детскую исправительную колонию, мать и отчим против этого не возражали. И вот весной 1947-го пустился я в арестантскую жизнь, доселе мне неведомую, но о которой наслышан был весьма и весьма...
— И судя по наколке на кисти правой руки, — "солнышко" с одиннадцатью лучами — в иерархии зеков Глеб Горбовский занимал не последнее место?..
— Последнее — это под нарами... А я выдавал себя в колонии, где сидел, за вора-малолетку. Отсюда и наколка на руке — воровская. Сделал я ее еще в ремеслухе на уроках черчения; мы там получали пузырьки с тушью. Арест неотвратимо надвигался, и надо было решать, кем — фраером или уркой — мне представиться в уголовном мире. Принял я подленькое компромиссное решение: с волками жить — по-волчьи выть. Решил последовать Мальтусу, а не Христу. И все из нежелания страдать, из страха перед унижениями, которые вершатся в тюрьмах над фраерами.
Наколка эта помогла потом утвердиться среди воришек-сокамерников. К тому же знал я уже и кое-что из законов блатной жизни: как надо первый раз входить в камеру, что говорить на "толковищах", знал и то, что подобьют меня воры совершить ритуальную кражу. Скажут, что раз ты "хлялся за вора", давай покажи себя на деле.
Случай представился, когда нас этапировали в колонию в общем вагоне, одну половину которого занимали обыкновенные граждане, а вторую — наша подконвойная преступная братия. Помню, как, проползя под лавками, я ухватил из-под ног мужика кошелку, на дне которой оказался кусок хозяйственного мыла и огромный самодельный нож с деревянной ручкой. Потом была еще одна кража... Последняя в моей жизни...
Из колонии я сбежал. Сбежал с "концами". Бог миловал, не дал моей душе проржаветь насквозь. Я часто вспоминаю тюрьму, своих товарищей по заключению и нашу общую окаянную загубленную юность. Но при этом — удивительно! — за всю свою последующую жизнь я не написал ни одного стиха о своем знакомстве с узилищем. Разве что в шутливой, ернической песенке однажды прорвалось: "Сижу на нарах, как король на именинах..."
— Между прочим, песенку эту хором исполнил битком набитый зал Капеллы, когда праздновали Ваше семидесятилетие. Пожилые, интеллигентные люди, чуть ли не со слезами на глазах, пели под сводами прославленной Капеллы забубенные "Фонарики"; а Глеб Яковлевич с блаженной улыбкой на лице слегка помахивал рукой в такт песне... Это надо же! "Сюр" какой-то! Кажется, Вы написали "Фонарики", служа в армии, в 1953-м, а вообще-то когда впервые стали сочинять стихи?
Словом, как кулаком по морде!
— Стихи я начал писать в шестнадцать, на Волге, в домике отца, куда попал, вдосталь поскитавшись по России, после своего бегства из колонии. Я уже говорил, что отец был арестован в 1937-м за антисоветскую агитацию, якобы за создание в питерской школе — бывшей знаменитой гимназии Мая, где он преподавал литературу, "меньшевистской группы в количестве двух человек с целью физического уничтожения наркома путей сообщения Лазаря Кагановича". После освобождения отец уже не имел права вернуться в Ленинград и обосновался в костромских лесах, в деревне Жилино, где директорствовал в крошечной сельской школе. Здесь он вымолил мне прощение за побег, помог выправить паспорт. Здесь же за один год я прошел программу третьего, четвертого, пятого и шестого классов, а затем был переправлен к его сестре Евдокии во Владимирскую область, где в селе Богородском закончил семилетку. Вообще-то нынешнее образование мое — восемь классов: девятый я полностью не закончил. Восемь классов — в девяти школах... При этом настоящий учитель был у меня один — мой отец.
Все началось от книг из учительского шкафа Жилинской школы. Здесь "проживали" Пушкин, Толстой, Руссо, Карамзин, Лермонтов, Гоголь, Сервантес... Отец, на которого я безжалостно обрушил свои первые стихотворные опыты, ритмический бубнеж, навеянный Иваном Никитиным и жалостливыми песнями поездных инвалидов, — пришел в ужас, решив, что с этого дня я непременно брошу обучение по школьной программе и останусь неучем. Он предложил даже предать мои опыты огню. Но было уже поздно: я вкусил...
Потом, вернувшись в Ленинград, я пошел в восьмой класс 30-й школы и жил одиноко в огромной холодной комнате на 9-й линии Васильевского острова. Ее оставили мне мать и отчим, уехавшие навсегда на юг. Вместе с комнатой получил я в наследство и отличную библиотеку, собранную еще до войны на Малой Подъяческой моим отцом. И я читал запоем прекрасно изданные Марксом, Гжербиным, Сойкиным: Диккенса, Лескова, Гончарова, Гауптмана, Гамсуна, Достоевского; и тех, кто был "оформлен" подешевле: Блока, Гумилева, Мандельштама, Клюева, Бальмонта, Северянина, Ходасевича...
По вечерам в моей тридцатиметровой, с белой кафельной печью, комнате собиралось несколько школьных товарищей, которых сменит позже, когда я вернусь из армии, рать еще не состоявшихся поэтов.
Мы читали друг другу стихи и пили... Плодово-ягодное вино, реже водку и портвейн. Закуска присутствовала на столе редко. Мы были бедны. Особенно — я. Надо было платить и за квартиру, и за обувь; надо было есть каждодневно; поскольку львиная доля денег, что присылали мне родители, а позже приносила мизерная зарплата слесаря "Ленгаза", уходила на "плодово-выгодное",— в смысле финансов пребывал я на вечной мели. И тогда я стал продавать книги из отцовской библиотеки... Они исчезали в мешке маклака, человека с обгоревшим лицом. "Горелый" уносил их, как уносят щенков или котят, чтобы утопить их. Перед уходом он бросал на стол "простынку" — сто рублей одной бумажкой, на которые можно было сообразить довольно скромное угощение на две персоны.
Ровно через тридцать лет и три года он позвонил мне по телефону. Представился: "Это я, Сережка, танкист горелый. Помнишь книжника? Ты вот теперь сам книжечки выпускаешь..." И предложил увидеться. Дескать, ему есть что сказать перед смертью... Я отказал в прощальной милости этому несчастному инвалиду. Совершил преступление против человечности... А, между прочим, мои "книжечки" начинались именно на Васильевском. Здесь рождалась первая из них — "Поиски тепла". И это ведь был мой вопль о тепле человеческом, которого мне так не хватало тогда...
Ушли мои учителя... Сгинула отцовская библиотека; в начале 90-х умер отец; а еще раньше умер в Израиле Давид Яковлевич Дар, странный маленький человек, напоминающий сказочного тролля с гигантской трубкой во рту.
Дар был моим первым учителем в создании настоящей, с его точки зрения, поэзии. Стихи, которые я ваял по его методике, были моими первыми, опубликованными в середине 50-х годов, стихами: "Зеркало", "Телефонная трубка", "Почтовый ящик", "Комар", "Муха", "Ерш", "Ослик на Невском". Главное, чтобы резко, контрастно, выпукло, экспрессивно. И — кратко. Вот стиходельческая концепция Дара. Его поэтическая идеология. Чтобы словом — "как кулаком по морде!" — тоже его пожелание. Я благодарен Давиду Яковлевичу за многое; главное — за дарованную — простите за каламбур — умелость, с которой было уже нестрашно отправляться в океан поэзии. Преклоняюсь я перед светлой памятью и другого своего учителя — Глеба Сергеевича Семенова, указавшего мне на эстетические и философские глубины этого океана.
Я никому не сделал зла...
— Вы стали, как считают многие, по-настоящему знаменитым после выхода в свет весной 1968-го "Тишины" — четвертой книги ваших стихов. Критики тогда ругали ее с пеной у рта, относя в разряд антисоветских. Изъятая из продажи "Тишина" стала продаваться на черном рынке по баснословным для тех времен ценам. А как у Вас вообще складывались отношения с власть предержащими — до и после выхода "Тишины"?
— "Я тихий карлик из дупла, лесовичок ночной. Я никому не сделал зла, но недовольны мной..." Это — 1966-й год. Из моей третьей книги стихов "Косые сучья". Мне всегда казалось, что я равнодушен к политике, но при этом меня не покидало ощущение, что политическая власть неравнодушна ко мне. Наверное, дело в том, что многое из написанного в 50-60-е годы, не будучи опубликованным, ходило по рукам, печаталось в Самиздате. Мои стихи не были диссидентскими: слишком густ был патриотический замес в моем сознании, слишком сильна любовь к обретенной после разлучницы-войны Родине. Но они были необычны — по-своему окаянны, своенравны — и уже потому не укладывались в прокрустово ложе официальной поэзии, раздражали отцов и блюстителей лжеидеологии той поры.
Еще в середине 50-х кое-что из моих самиздатовских стихов, а также поэма "Мертвая деревня" фигурировали на процессе, где за антисоветскую деятельность и связь с иностранцами — сопровождение по Питеру композитора Бернстайна — судили ленинградского писателя Кирилла Косцинского. В войну он спас от смерти будущего австрийского канцлера Бруно Крайского, что дало ему возможность потом, после мордовских лагерей, остаток дней своих прожить в Австрии. К Косцинскому, как и многие неприкаянные поэты пятидесятых, я ходил в гости. Там, кроме всего прочего, гревшего мою душу, можно было досыта поесть и хорошо выпить. Как попали мои стихи в дело Косцинского — не знаю. У меня обыск не проводили, рукописей не изымали... Внешне — все вроде обошлось тихо, но видно жирная галочка против моей фамилии была в Большом доме поставлена уже тогда. Потом, в 70-е, были всяческие передряги в связи с появлением моих стихов в изданном в Лондоне сборнике "Живое зеркало".
Дело на меня в Большом доме существовало многие годы; мне показали его уже в "перестройку", когда я однажды выступал там перед чекистами.
Что же касается "Тишины", то, кроме разве что стихов "Человек за моею спиною" — намека на существовавшую слежку за поэтом, — книжка была достаточно индифферентна к гримасам режима. Другое дело — ее общее настроение, атмосфера... "Тишина" — это реквием хрущевской оттепели, похоронный перезвон по лихим шестидесятым. Тишина — это состояние, в которое погружалось общество. Но тут уж дело в подтексте, который возникает иногда и не по воле автора.
Добавил ли мне популярности скандал от выхода "Тишины"? Может быть... Но вообще-то популярности мне тогда хватало. На выступления, где я читал перед большими аудиториями "Квартиру номер шесть", "Скуку" и "Зал ожидания", публика ломилась.
О поэме "Зал ожидания" скажу особо. В ней отображен целый пласт жизни, связанный с обитанием вблизи Московского вокзала, в доме № 2 по Пушкинской улице. Через мою комнатушку — с подслеповатым окном, колченогим столиком и продавленным креслом — протекло в шестидесятых великое множество интересных людей. Были, конечно, и люди сломленные. Но больше было все-таки тех, кто готов был повторять: "Мы, конечно, умрем, но это — потом, как-нибудь, в выходной день".
Комната моя чем-то влекла к себе моих друзей и знакомых, ставших впоследствии известными или даже знаменитыми писателями, поэтами, художниками. Здесь бывали Олег Григорьев, Андрей Битов, Виктор Соснора, Евгений Рейн, Виктор Голявкин, Константин Кузминский, Олег Тарутин, Алексей Хвостенко, Михаил Кулаков... Кто-то из тех, кого я назвал, еще топчет землю — то ли родную, российскую, то ли — мачеху-чужбину; кто-то уже давно в лучшем из миров, там, где пребывают и двое из моих гостей тех лет: великие поэты Николай Рубцов и Иосиф Бродский. Первый, кстати, увековечил мою Пушкинскую, мой трущобный двор и мою коммуналку в прекрасном стихотворении — "В гостях".
Пушкинская и всегда-то была богемной: еще до революции славилась "Пале-Роялем"; помнила Блока, Куприна, Мандельштама, Александра Грина; да вот и тень моего поколения легла на дом № 2. Общая тень богемы шестидесятых — трудолюбивой, мечтательной, нищей и пребывающей частенько "на дивном веселе".
Жизнь едина: как вдох и выдох
Впрочем, что касается меня, то именно здесь, на Пушкинской — или, точнее, вскоре после того, как я уехал отсюда — я на долгие годы распрощался с богемой. Началась у меня другая жизнь...
— В каком смысле: другая?
— Трезвая. Господь Бог даровал ее мне за глубокое раскаяние в грехе пьянства, приносившего столько бед и страданий.
— Понятно... Хотя, судя по обстановке, в которой мы с Вами встречаемся, "другая жизнь" была дарована Вам не навсегда. Вы живете в одиночестве, хотя есть у Вас и дети, и внуки; нет с Вами огромной, вновь собранной библиотеки; и жилье Ваше, увы, — маленькая комнатушка...
— Другая жизнь закончилась почти через двадцать лет — в срок, предсказанный знаменитым доктором-наркологом Геннадием Андреевичем Шичко. Случилось это во время поездки в Америку весной 1991-го года. Был я там с Виктором Соснорой, Виктором Максимовым и Майей Борисовой и на одном из приемов в Бруклине случайно перепутал зеленый лимонад и такого же цвета "Сильванер". Оскоромился слегка, ну а потом уже у тестя в Белоруссии "развил успех" с помощью самодельного вина.
— Значит, нельзя все-таки навсегда вылечиться от алкоголизма?
— Думаю, нельзя... Я прошел девять психушек и лечился у тех, кто владеет якобы самыми совершенными методиками! Не помогало. Не помогало, пока не встретил Шичко, сумевшего совместить свою душу с моей и безболезненно сотворить чудо. Подобное происходило у него и с другими пропащими, отринутыми... Но не всегда. Особенно, оказывается, тяжело лечить людей интеллектуальных, творческих, со сложной и издерганной нервной системой... Эти — рано или поздно — всегда срываются! Впрочем, все это описано в моей повести "Шествие".
— Прозу Вы стали писать уже в "другой жизни"?
— В другой. Но почти сразу, как она только началась. Это даже вызвало разговоры, что, лишившись будоражащей нервы "подпитки", я иссяк как поэт. Ходил слух, что проза для меня если не баловство, то — гордыня: дескать, захотел и здесь отметиться. Но я-то знаю, в прозе — часть моей души, плод моей "одаренности", если она, конечно, есть. Сперва я написал повесть "Ветка шиповника" — про Сахалин, где когда-то работал; потом "Снег небесный" — о своем дядя Саше, его мечтах и надеждах, и про то, как он застрелился... А дальше были: "Вокзал", "Мираж на Васильевском острове" и, наконец, уже упомянутое "Шествие" и прочее. Печаталось все это в толстых журналах... И тогда же стал писать стихи для детей. Они издавались миллионными тиражами. А еще песни писал. Много песен: с Пожлаковым, Морозовым, Портновым. Пробовал работать и с Василием Павловичем Соловьевым-Седым. Но он, к сожалению, был тогда уже на излете... А вообще-то стихи мои ему нравились. Он любил повторять, посмеиваясь: "Хватит мне слушать МАТ-усовского и нюхать КАЛ-мановского".
С Василием Павловичем я впервые выехал на концерты за рубеж, в группу наших войск. Это были Чехословакия, ГДР, Польша, Венгрия. Потом там были изданы книжки моих стихов. В Польше, наверное, обратили внимание на мою фамилию. Горбовские есть и у поляков. Хотя наша фамилия происходит от родины отцовского деда — деревни Горбово на Псковщине. А в Венгрии заинтересовались тем, что я на четверть угро-финн по матери. Отсюда и моя шевелюра овсяная. Такие часто бывают у зырян...
— Да, помнится, знатная была в молодости у Вас шевелюра... Могу предположить, что нравилась она многим дамам, и многие дамы нравились Вам. Но вот стихов, посвященных женщинам, у Вас мало. Все больше мелькают мужские имена и фамилии. Что так?
— Да. Своей единственной Беатриче у меня не было. Посвящал стихи своей первой жене — поэтессе Лидии Гладкой, среди которых — одно из самых моих лучших "Кто бы видел, как мы с ней прощались"... Есть несколько стихов, посвященных Анюте — моей любви середины шестидесятых. Пока я был в экспедиции, она упорхнула с неким Уманским в Америку. Вернулся я с рюкзаком красной рыбы, с сорока банками икры, а Анюты — нет... Потом, годы спустя, она покончила с собой там — в Америке... И, конечно, множество стихов посвящалось Светлане, моей второй жене, с которой прожито было более четверти века... Ну а теперь, когда мне семьдесят, влюбляться в кого-то вроде бы поздно. И если стоит посвятить стихи женщинам, то разве что — все той же Лидии Гладкой. Она оказалась самым верным другом; поддерживает меня в старости; осуществила издание моих книг "Окаянная головушка" и "Распутица", а сейчас работает над изданием семитомного собрания моих сочинений. — И возвращается все на круги своя...
— Возвращается... Но вообще говоря, как это заметил еще Юрий Трифонов, и не бывает "других жизней". Хотя, быть может, жизнь формально и делится на какие-то периоды, но я для себя ничего не делю. Жизнь едина: как вдох и выдох. И остается лишь молить у Бога прощения за собственную вину перед ней и склонять свою покаянную и все еще окаянную головушку.